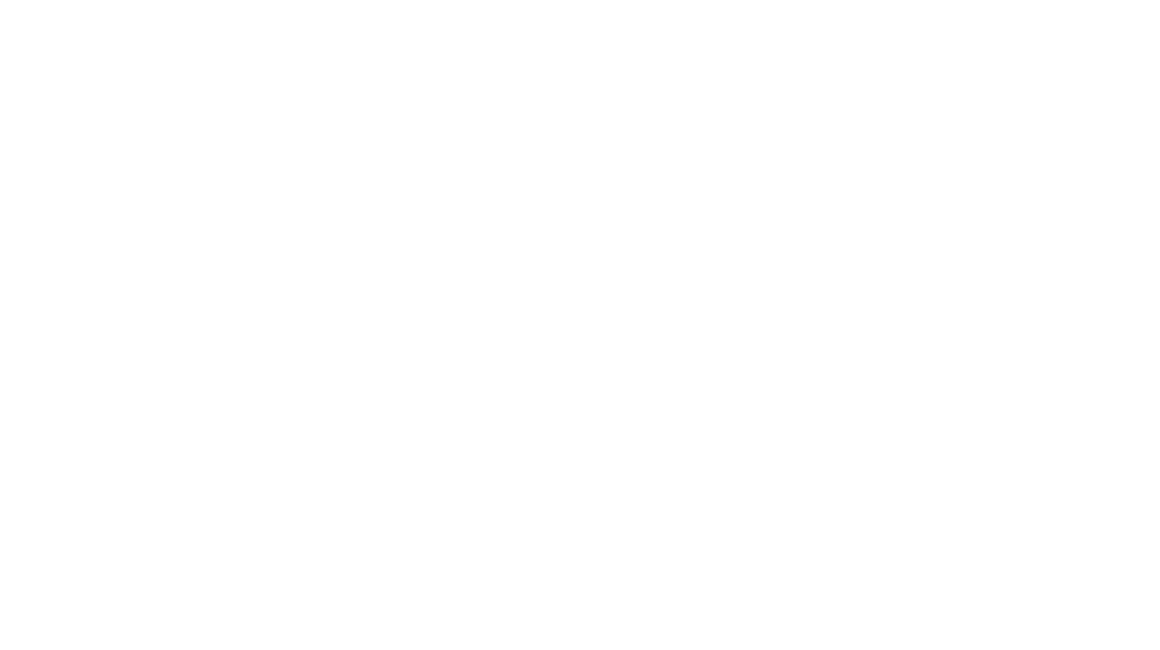
Предисловие к роману «Тайная исповедь и мемуары оправданного грешника»
Публикуем текст Андре Жида, сопровождавший французское издание романа Джеймса Хогга 1947 года, в переводе Ирины Борисовой. Именно это предисловие дало импульс последующей мировой славе «Тайной исповеди...».
Перевод с английского Ирины Борисовой
Открытием этой потрясающей книги я обязан своему замечательному другу Раймонду Мортимеру. В 1924 году, когда я все еще находился в Алжире, он весьма любезно прислал мне три книги на английском языке. Две из них — это работы Джона Стюарта Милля: «Автобиография» и эссе «О свободе», к которым в то время вновь возник интерес на волне угрозы тоталитаризма. Последнюю, на мой взгляд, следует распространять везде, переводить на любые языки, ее должен прочесть и обдумать каждый, кому небезразличны судьба человеческой личности, ее права и обязанности. Третьей же присланной мне книгой было свежее издание «Мемуаров оправданного грешника» Джеймса Хогга, в чтение которых я немедленно погрузился и которыми с каждой страницей был все более потрясен и восхищен. Я расспрашивал об этой книге англичан и американцев, которых встречал в Алжире, — и, хотя многие из них были весьма образованны, никто ничего о ней не слышал. По возвращении во Францию я продолжил попытки что-то узнать про этот роман — и вновь безрезультатно. Чем же объяснить, что столь самобытное и содержательное произведение, дающее такую обильную пищу для размышления и тем, кто интересуется вопросами религии и морали, и, в силу других причин, — психологам и художникам, в первую очередь — сюрреалистам, которых так влечет любое проявление демонического, — так вот, чем же объяснить, что это произведение так и не нашло признания?
В небольшом предисловии к роману находим совсем немногое: «Джеймс Хогг, — сообщается там, — родился в 1770 году, умер в 1835-м и сегодня мало кому известен — в основном в свете его связей с другими литераторами. Те сочинения, что раскрывают грани личности автора, в том числе и со "светлой" стороны, сегодня практически забыты».
Большой английский «Словарь национальных биографий», к которому я обратился, содержит статью о Джеймсе Хогге — «эттрикском пастухе». Упоминается он и во франкоязычном «Словаре знаменитых современников» Гюстава Ваперо. «Словарь» отмечает среди его работ сборник народных песен, созданный в 1801–1803 годах, привлекший к Хоггу внимание сэра Вальтера Скотта, с которым тот подружился; другой двухтомный сборник песен 1819–1821 годов, а также «Быт и частную жизнь Вальтера Скотта», однако ни французский, ни английский источники ничего не сообщают об «Исповеди» — этой «исключительно пугающей истории, перепечатываемой по изданию 1824 года». Т. Эрл Велби, написавший небольшое предисловие к этому изданию, завершил его так: «Эдгар По не писал ничего столь ужасного и наделенного подобной духовной значимостью; в работах Дефо не найти столь убедительной детализации. Однако эти имена, наряду с именами Баньяна и Готорна, когда к ним обращаются критики, звучат скорее как штампы. "Исповедь" же обращается к ужасному совершенно особым образом — таким, которым это делал только Хогг, сухим, крепким, проницательным».
И я с ним согласен. Давно я не был так пленен, так сладостно мучим какой бы то ни было книгой. Преувеличиваю ли я ее значимость? Возможно. Делать заявления относительно ценности иностранной книги — дело неблагодарное. Возможно, меня ввело в заблуждение мое незнание обстоятельств, отчего я преувеличил важность этой работы и счел ее более необычной, чем она есть. Моя подруга и переводчица Дороти Бюсси, сестра Литтона Стрейчи, писала мне: «Не следует забывать, что это вовсе не английское произведение. Оно очень шотландское». Приведу ее слова: «Эта книга до мозга костей шотландская. Англичанин такого не напишет. Ее атмосфера, ее попытка осмыслить пуританство через форму и содержание — все это очень по-шотландски. Предшественника и родственника произведения Хогга следует искать у Бернса — предлагаю вам перечитать его "Молитву святого Вилли". Существуют и другие стихи, а также есть ряд малоизвестных современников Хогга, чьи тексты также посвящены ужасам шотландского фанатизма, — и на их фоне "Исповедь" уже не кажется чем-то выходящим из ряда вон. Что, разумеется, не умаляет достоинств романа — но делает его менее особенным и примечательным среди современных ему произведений».
Думаю, так оно и есть. Но разве нельзя сказать того же самого, сопоставляя Шекспира с прочими драматургами елизаветинской эпохи?
Как бы там ни было, книга перед нами. Пусть ее место в истории определяют ученые мужи, пусть они ищут ее предшественников и определяют, где находятся ее корни. Я без лишних вопросов принимаю ее такой, какая она есть: я ей поражаюсь, пугаюсь ее, страшусь этого чудовищного плода с Древа познания. Мне достаточно знать, что существует развитая страна, в недавней истории которой существовал период, когда такие искажения веры были возможны. Но еще более поражает меня то, что на момент выхода ничего поражающего в ней не видели.
К тому же это искажение — явление не исключительно шотландское. Хоггов «оправданный грешник», сам того не ведая, без сомнения — антиномист, последователь учения Иоганна Агриколы, о котором можно прочесть в списке христианских ересей 1538 года за авторством Понтана. А в изданном в Лондоне в 1704 году «Словаре религий» о нем написано следующее:
«Антиномисты, называемые так за отвержение ими Закона, — по их мнению, он в силу Божьего промысла лишен смысла — считают, что добродетель не приближает к спасению, а злодеяние не препятствует ему; что дитя Божье согрешить не способно, что Господь никогда не попречет Свое чадо его деяниями; что убийство, невоздержность и прочие грехи — грехи лишь для тех, кто зол по природе своей, но не для подобных Богу; что тот, кого коснулась милость Его и кому однажды обещано спасение, после никогда в нем не усомнится и что Господь любит людей не за святость, и даже причисление к лику святых не есть синоним оправдания перед Богом и так далее...»
Бесценные сведения я обнаружил и в издании стихов Роберта Браунинга, приуроченном к столетнему юбилею поэта, — иметь эту книгу в своей библиотеке для меня большая честь. Они содержатся в предисловии к замечательному стихотворению «Иоганн Агрикола размышляет». «Иоганн Агрикола, — говорится там, — был учеником Лютера в ранний период Реформации, однако впоследствии основал течение антиномистов, крайние формы учения которых предполагали, что тому, кому уготовано спасение, добродетель не нужна, равно как и злодеяния не станут ему препятствием для спасения, если оно предначертано». Иоганн Агрикола из стихотворения Браунинга «навеки невинен» — сама мысль об этом поражала меня. Был ли Браунинг знаком с романом Хогга? Тема его стихотворения — та же самая, однако если персонаж Браунинга лишь размышляет, то герой Хогга переходит к действию. В его романе мы наблюдаем, как и без того слабая личность героя постепенно стирается и подчиняется преступным замыслам — а религия лишь потворствует падению; при этом само описание злодейств, в которые «оправданный грешник» дает себя втянуть, само по себе крайне занимательно. Браунинг создает для «Агриколы» перекличку с прекрасным стихотворением «Любовник Порфирии», помещая их под общий заголовок «Клети сумасшедшего дома». Омерзительный герой Хогга, впрочем, мыслит вполне здраво, тщательно продумывает убийства и испытывает удовлетворение, осуществляя их. Он не безумец, но одержимый: мы видим, как он все более уступает уговорам своего влиятельного друга, в котором он, — впрочем, слишком поздно — узнает самого дьявола, хотя слово «дьявол» так и не звучит напрямую. Одна из интереснейших особенностей книги — схематичное изображение череды состояний личности, которой все более льстит ее знакомство с Князем тьмы. Когда пелена очарования наконец сорвана и грешник бросается прочь, чтобы вырваться из его ужасающей хватки, — уже слишком поздно. Лукавый завладел им и уже не отпустит.
Без сомнения, книга должна была быть нравоучительной — или хотя бы притвориться таковой. Иначе ее издание просто не допустили бы. Но сомневаюсь, что сам Хогг стоял на стороне «истинной религии», а не придерживался здравого смысла, трезвого рассудка и не ценил вполне естественной широты души в духе Тома Джонса, — ведь как раз таков брат «оправданного грешника», которого «оправданный» убивает из зависти и ненависти — и, кстати, не в последнюю очередь из желания завладеть его долей отцовского наследства. Сам он, однако, считал содеянное не убийством, а добродетельным поступком.
Хогг же явно сочувствует брату Роберта — спонтанному, веселому, олицетворяющему человечность, не скованную религиозными догмами и несущую в себе множество возможностей. Именно поэтому наш «антиномист» вполне естественно приходит к выводу, что тот проклят и что от ему подобных мир надлежит очистить. Его демонический друг внушает ему, что он и есть длань Господня, сотворенная Им, чтобы осуществить очищение. И фанатизм — благодатная почва для появления подобных «чистильщиков». Роберт с ранних лет был приучен «молиться дважды в день, а по субботам — семикратно, — пишет Хогг, — но молиться ему предписывалось лишь за избранных, а всем остальным, отпавшим от Господа, — возвещать погибель, какую обычно сулят дьяволу». Приемный отец Роберта, мистер Рингим, привил мальчику эти антиномистские взгляды и старательно культивировал в нем присущую от природы злобливость, желая придать ей священный смысл, поставив ее на службу Господу. Рингим сам был последователем этих взглядов и ввел Роберта в свой «круг земных праведников» сразу, как только тот достиг разумного возраста. А во второй части книги, где и излагается исповедь, Роберт вспоминает это событие как некое подобие мистической конфирмации: «Удостоверившись в своем освобождении от всякого греха и невозможности вновь пасть в прежнее состояние, я разрыдался от радости». Роман Хогга состоит из двух частей. Вторая повторяет рассказ о событиях, описанных в первой, но в ней эти события видны отчетливо и прозрачно, а не со стороны, как в первой, — так, как их ощущал сам герой, ретроспективно переживающий свою трагедию в духе поэтических монологов Браунинга. Был ли автор «Кольца и книги» знаком с сочинением Хогга? Я в этом практически не сомневаюсь, равно как и в том, что оно на него повлияло, — однако, насколько мне известно, на это пока никто не указывал.
Я использовал слово «конфирмация» в том значении, которое придает ему церковь; вероятно, следовало сказать «интронизация», ведь Роберт чувствует себя и искренне полагает себя высшим лицом церкви, на которого обращены воззвание и промысел Божий и который избран для высших же целей: чтобы осуществить «великие и ужасные деяния, претворяемые силою, с допущения Небес». Теперь мы попадаем в царство ужасного. Нам представляют нового героя, которого в первой части мы едва рассмотрели, — теперь же он готов выйти на сцену и сыграть в этом представлении главную роль; однако мы не сразу поймем, что этот новый протагонист — дьявол. Сперва он предстает в лучшем свете и долгое время кажется другом. Встреча с ним происходит сразу же после конфирмации. «Роберт устремился в поля и леса, дабы излить свой дух в молитве благодарности Всевышнему за Его доброту». В этом окрыленном состоянии он чувствует себя парящим над миром, словно орел, однако, хотя он претендует на близость к Богу, этот взлет нужен ему лишь для того, чтобы с высоты презирать и ненавидеть грешное и обреченное человечество. Именно в этот момент к нему подходит некто, похожий на него как брат: в книге Хогга у дьявола есть такая особенность — принимать облик того, к кому он проявляет интерес. «Я замечал, — произносит грешник, — как иногда, когда мы обсуждали других священников с их постулатами, он вдруг принимал их облик. — И спешно добавляет: — Меня поразило, как, меняя свои черты, он вместе с тем проникал в образ мысли и чувства других людей». Эта полезная способность дает дьяволу Хогга алиби в любом деле. Из всех воплощений дьявола в искусстве и литературе именно это кажется мне наиболее настоящим: «Мой облик меняется в зависимости от предмета изучения и ощущений, — говорит он Роберту, когда тот еще не понимает, с кем имеет дело. — Если я внимательно смотрю на кого-нибудь, то принимаю не только внешнее с ним сходство, но и перенимаю сами его мысли и сам ход рассуждения, потому, как вы понимаете, пристальный взгляд раскрывает мне самые сокровенные закоулки его души».
Ведь дьявол никогда не предстанет перед нами в обличии злодея. Стоит нам узреть его копыта и перепугаться — ему уже ничего не светит. История про копыта долгое время пользовалась популярностью. Однако Дефо, знавший толк в этой теме, в своей «Истории дьявола» отмечает, что дьявол без труда может нанести визит своему знакомцу инкогнито и «никаких копыт тот не обнаружит». Все это, конечно, ерунда: «История» сочинялась в шутку, а в самом Дефо было слишком много от дьявола, чтобы верить в это всерьез. Книга нужна ему была лишь затем, чтобы похвастаться своими весьма многочисленными и острыми наблюдениями. Что до меня самого, я считаю дьявола изобретением — как, впрочем, и Бога. Я не верю в него, но притворяюсь, что верю. Мне нравится заигрывать с ним и слышать от него: «Ну, чего же ты боишься? Ты ведь прекрасно знаешь, что меня не существует». Да и, в конце концов, независимо от нашего к нему отношения дьявол всегда побеждает.
У Хогга же получилась одна из самых тонких и убедительных персонификаций дьявола. Мощь, с помощью которой он действует, исключительно психологического толка — а стало быть, ей подвластны даже неверующие. Он — внешняя проекция наших собственных желаний, нашей гордыни, наших потаенных мыслей. Наше потакание себе поддерживает в нем жизнь. И отсюда глубокие выводы, которые позволяет сделать эта странная книга, — а фантастическое в ней (кроме последних страниц) всегда коренится в психологии и объясняется ею, безо всякого обращения к сверхъестественному, подобно тому как это происходит в замечательном «Повороте винта» Генри Джеймса. (Лишь прочитав этот исключительный шедевр в третий раз, я убедился, что все располагающие к сверхъестественной трактовке компоненты истории — на самом деле лишь естественное следствие ментальной болезни гувернантки или, если еще более упрощать, — следствие страха.)
Событиям, описываемым в романе Хогга, труднее давать естественную трактовку, особенно это касается заключительной части: фантасмагория слишком легко подчиняет себе реальность, и констатировать это приходится с сожалением. Фантастическое в ней перестает быть чистой выдумкой, проекцией сознания, хотя именно это позволяли предположить первые три четверти книги. Однако не будем слишком строги к Хоггу: странное в его тексте всегда или почти всегда раскрывает грани психологии личности. Эта книга заслуживает выйти из более чем векового забвения именно в таком виде, в котором она есть. На мой взгляд, это совершенно уникальное произведение, и я буду счастлив, если сказанное мною поспособствует обретению им той запоздалой славы, которую оно, я полагаю, заслуживает.
В небольшом предисловии к роману находим совсем немногое: «Джеймс Хогг, — сообщается там, — родился в 1770 году, умер в 1835-м и сегодня мало кому известен — в основном в свете его связей с другими литераторами. Те сочинения, что раскрывают грани личности автора, в том числе и со "светлой" стороны, сегодня практически забыты».
Большой английский «Словарь национальных биографий», к которому я обратился, содержит статью о Джеймсе Хогге — «эттрикском пастухе». Упоминается он и во франкоязычном «Словаре знаменитых современников» Гюстава Ваперо. «Словарь» отмечает среди его работ сборник народных песен, созданный в 1801–1803 годах, привлекший к Хоггу внимание сэра Вальтера Скотта, с которым тот подружился; другой двухтомный сборник песен 1819–1821 годов, а также «Быт и частную жизнь Вальтера Скотта», однако ни французский, ни английский источники ничего не сообщают об «Исповеди» — этой «исключительно пугающей истории, перепечатываемой по изданию 1824 года». Т. Эрл Велби, написавший небольшое предисловие к этому изданию, завершил его так: «Эдгар По не писал ничего столь ужасного и наделенного подобной духовной значимостью; в работах Дефо не найти столь убедительной детализации. Однако эти имена, наряду с именами Баньяна и Готорна, когда к ним обращаются критики, звучат скорее как штампы. "Исповедь" же обращается к ужасному совершенно особым образом — таким, которым это делал только Хогг, сухим, крепким, проницательным».
И я с ним согласен. Давно я не был так пленен, так сладостно мучим какой бы то ни было книгой. Преувеличиваю ли я ее значимость? Возможно. Делать заявления относительно ценности иностранной книги — дело неблагодарное. Возможно, меня ввело в заблуждение мое незнание обстоятельств, отчего я преувеличил важность этой работы и счел ее более необычной, чем она есть. Моя подруга и переводчица Дороти Бюсси, сестра Литтона Стрейчи, писала мне: «Не следует забывать, что это вовсе не английское произведение. Оно очень шотландское». Приведу ее слова: «Эта книга до мозга костей шотландская. Англичанин такого не напишет. Ее атмосфера, ее попытка осмыслить пуританство через форму и содержание — все это очень по-шотландски. Предшественника и родственника произведения Хогга следует искать у Бернса — предлагаю вам перечитать его "Молитву святого Вилли". Существуют и другие стихи, а также есть ряд малоизвестных современников Хогга, чьи тексты также посвящены ужасам шотландского фанатизма, — и на их фоне "Исповедь" уже не кажется чем-то выходящим из ряда вон. Что, разумеется, не умаляет достоинств романа — но делает его менее особенным и примечательным среди современных ему произведений».
Думаю, так оно и есть. Но разве нельзя сказать того же самого, сопоставляя Шекспира с прочими драматургами елизаветинской эпохи?
Как бы там ни было, книга перед нами. Пусть ее место в истории определяют ученые мужи, пусть они ищут ее предшественников и определяют, где находятся ее корни. Я без лишних вопросов принимаю ее такой, какая она есть: я ей поражаюсь, пугаюсь ее, страшусь этого чудовищного плода с Древа познания. Мне достаточно знать, что существует развитая страна, в недавней истории которой существовал период, когда такие искажения веры были возможны. Но еще более поражает меня то, что на момент выхода ничего поражающего в ней не видели.
К тому же это искажение — явление не исключительно шотландское. Хоггов «оправданный грешник», сам того не ведая, без сомнения — антиномист, последователь учения Иоганна Агриколы, о котором можно прочесть в списке христианских ересей 1538 года за авторством Понтана. А в изданном в Лондоне в 1704 году «Словаре религий» о нем написано следующее:
«Антиномисты, называемые так за отвержение ими Закона, — по их мнению, он в силу Божьего промысла лишен смысла — считают, что добродетель не приближает к спасению, а злодеяние не препятствует ему; что дитя Божье согрешить не способно, что Господь никогда не попречет Свое чадо его деяниями; что убийство, невоздержность и прочие грехи — грехи лишь для тех, кто зол по природе своей, но не для подобных Богу; что тот, кого коснулась милость Его и кому однажды обещано спасение, после никогда в нем не усомнится и что Господь любит людей не за святость, и даже причисление к лику святых не есть синоним оправдания перед Богом и так далее...»
Бесценные сведения я обнаружил и в издании стихов Роберта Браунинга, приуроченном к столетнему юбилею поэта, — иметь эту книгу в своей библиотеке для меня большая честь. Они содержатся в предисловии к замечательному стихотворению «Иоганн Агрикола размышляет». «Иоганн Агрикола, — говорится там, — был учеником Лютера в ранний период Реформации, однако впоследствии основал течение антиномистов, крайние формы учения которых предполагали, что тому, кому уготовано спасение, добродетель не нужна, равно как и злодеяния не станут ему препятствием для спасения, если оно предначертано». Иоганн Агрикола из стихотворения Браунинга «навеки невинен» — сама мысль об этом поражала меня. Был ли Браунинг знаком с романом Хогга? Тема его стихотворения — та же самая, однако если персонаж Браунинга лишь размышляет, то герой Хогга переходит к действию. В его романе мы наблюдаем, как и без того слабая личность героя постепенно стирается и подчиняется преступным замыслам — а религия лишь потворствует падению; при этом само описание злодейств, в которые «оправданный грешник» дает себя втянуть, само по себе крайне занимательно. Браунинг создает для «Агриколы» перекличку с прекрасным стихотворением «Любовник Порфирии», помещая их под общий заголовок «Клети сумасшедшего дома». Омерзительный герой Хогга, впрочем, мыслит вполне здраво, тщательно продумывает убийства и испытывает удовлетворение, осуществляя их. Он не безумец, но одержимый: мы видим, как он все более уступает уговорам своего влиятельного друга, в котором он, — впрочем, слишком поздно — узнает самого дьявола, хотя слово «дьявол» так и не звучит напрямую. Одна из интереснейших особенностей книги — схематичное изображение череды состояний личности, которой все более льстит ее знакомство с Князем тьмы. Когда пелена очарования наконец сорвана и грешник бросается прочь, чтобы вырваться из его ужасающей хватки, — уже слишком поздно. Лукавый завладел им и уже не отпустит.
Без сомнения, книга должна была быть нравоучительной — или хотя бы притвориться таковой. Иначе ее издание просто не допустили бы. Но сомневаюсь, что сам Хогг стоял на стороне «истинной религии», а не придерживался здравого смысла, трезвого рассудка и не ценил вполне естественной широты души в духе Тома Джонса, — ведь как раз таков брат «оправданного грешника», которого «оправданный» убивает из зависти и ненависти — и, кстати, не в последнюю очередь из желания завладеть его долей отцовского наследства. Сам он, однако, считал содеянное не убийством, а добродетельным поступком.
Хогг же явно сочувствует брату Роберта — спонтанному, веселому, олицетворяющему человечность, не скованную религиозными догмами и несущую в себе множество возможностей. Именно поэтому наш «антиномист» вполне естественно приходит к выводу, что тот проклят и что от ему подобных мир надлежит очистить. Его демонический друг внушает ему, что он и есть длань Господня, сотворенная Им, чтобы осуществить очищение. И фанатизм — благодатная почва для появления подобных «чистильщиков». Роберт с ранних лет был приучен «молиться дважды в день, а по субботам — семикратно, — пишет Хогг, — но молиться ему предписывалось лишь за избранных, а всем остальным, отпавшим от Господа, — возвещать погибель, какую обычно сулят дьяволу». Приемный отец Роберта, мистер Рингим, привил мальчику эти антиномистские взгляды и старательно культивировал в нем присущую от природы злобливость, желая придать ей священный смысл, поставив ее на службу Господу. Рингим сам был последователем этих взглядов и ввел Роберта в свой «круг земных праведников» сразу, как только тот достиг разумного возраста. А во второй части книги, где и излагается исповедь, Роберт вспоминает это событие как некое подобие мистической конфирмации: «Удостоверившись в своем освобождении от всякого греха и невозможности вновь пасть в прежнее состояние, я разрыдался от радости». Роман Хогга состоит из двух частей. Вторая повторяет рассказ о событиях, описанных в первой, но в ней эти события видны отчетливо и прозрачно, а не со стороны, как в первой, — так, как их ощущал сам герой, ретроспективно переживающий свою трагедию в духе поэтических монологов Браунинга. Был ли автор «Кольца и книги» знаком с сочинением Хогга? Я в этом практически не сомневаюсь, равно как и в том, что оно на него повлияло, — однако, насколько мне известно, на это пока никто не указывал.
Я использовал слово «конфирмация» в том значении, которое придает ему церковь; вероятно, следовало сказать «интронизация», ведь Роберт чувствует себя и искренне полагает себя высшим лицом церкви, на которого обращены воззвание и промысел Божий и который избран для высших же целей: чтобы осуществить «великие и ужасные деяния, претворяемые силою, с допущения Небес». Теперь мы попадаем в царство ужасного. Нам представляют нового героя, которого в первой части мы едва рассмотрели, — теперь же он готов выйти на сцену и сыграть в этом представлении главную роль; однако мы не сразу поймем, что этот новый протагонист — дьявол. Сперва он предстает в лучшем свете и долгое время кажется другом. Встреча с ним происходит сразу же после конфирмации. «Роберт устремился в поля и леса, дабы излить свой дух в молитве благодарности Всевышнему за Его доброту». В этом окрыленном состоянии он чувствует себя парящим над миром, словно орел, однако, хотя он претендует на близость к Богу, этот взлет нужен ему лишь для того, чтобы с высоты презирать и ненавидеть грешное и обреченное человечество. Именно в этот момент к нему подходит некто, похожий на него как брат: в книге Хогга у дьявола есть такая особенность — принимать облик того, к кому он проявляет интерес. «Я замечал, — произносит грешник, — как иногда, когда мы обсуждали других священников с их постулатами, он вдруг принимал их облик. — И спешно добавляет: — Меня поразило, как, меняя свои черты, он вместе с тем проникал в образ мысли и чувства других людей». Эта полезная способность дает дьяволу Хогга алиби в любом деле. Из всех воплощений дьявола в искусстве и литературе именно это кажется мне наиболее настоящим: «Мой облик меняется в зависимости от предмета изучения и ощущений, — говорит он Роберту, когда тот еще не понимает, с кем имеет дело. — Если я внимательно смотрю на кого-нибудь, то принимаю не только внешнее с ним сходство, но и перенимаю сами его мысли и сам ход рассуждения, потому, как вы понимаете, пристальный взгляд раскрывает мне самые сокровенные закоулки его души».
Ведь дьявол никогда не предстанет перед нами в обличии злодея. Стоит нам узреть его копыта и перепугаться — ему уже ничего не светит. История про копыта долгое время пользовалась популярностью. Однако Дефо, знавший толк в этой теме, в своей «Истории дьявола» отмечает, что дьявол без труда может нанести визит своему знакомцу инкогнито и «никаких копыт тот не обнаружит». Все это, конечно, ерунда: «История» сочинялась в шутку, а в самом Дефо было слишком много от дьявола, чтобы верить в это всерьез. Книга нужна ему была лишь затем, чтобы похвастаться своими весьма многочисленными и острыми наблюдениями. Что до меня самого, я считаю дьявола изобретением — как, впрочем, и Бога. Я не верю в него, но притворяюсь, что верю. Мне нравится заигрывать с ним и слышать от него: «Ну, чего же ты боишься? Ты ведь прекрасно знаешь, что меня не существует». Да и, в конце концов, независимо от нашего к нему отношения дьявол всегда побеждает.
У Хогга же получилась одна из самых тонких и убедительных персонификаций дьявола. Мощь, с помощью которой он действует, исключительно психологического толка — а стало быть, ей подвластны даже неверующие. Он — внешняя проекция наших собственных желаний, нашей гордыни, наших потаенных мыслей. Наше потакание себе поддерживает в нем жизнь. И отсюда глубокие выводы, которые позволяет сделать эта странная книга, — а фантастическое в ней (кроме последних страниц) всегда коренится в психологии и объясняется ею, безо всякого обращения к сверхъестественному, подобно тому как это происходит в замечательном «Повороте винта» Генри Джеймса. (Лишь прочитав этот исключительный шедевр в третий раз, я убедился, что все располагающие к сверхъестественной трактовке компоненты истории — на самом деле лишь естественное следствие ментальной болезни гувернантки или, если еще более упрощать, — следствие страха.)
Событиям, описываемым в романе Хогга, труднее давать естественную трактовку, особенно это касается заключительной части: фантасмагория слишком легко подчиняет себе реальность, и констатировать это приходится с сожалением. Фантастическое в ней перестает быть чистой выдумкой, проекцией сознания, хотя именно это позволяли предположить первые три четверти книги. Однако не будем слишком строги к Хоггу: странное в его тексте всегда или почти всегда раскрывает грани психологии личности. Эта книга заслуживает выйти из более чем векового забвения именно в таком виде, в котором она есть. На мой взгляд, это совершенно уникальное произведение, и я буду счастлив, если сказанное мною поспособствует обретению им той запоздалой славы, которую оно, я полагаю, заслуживает.
вас может заинтересовать
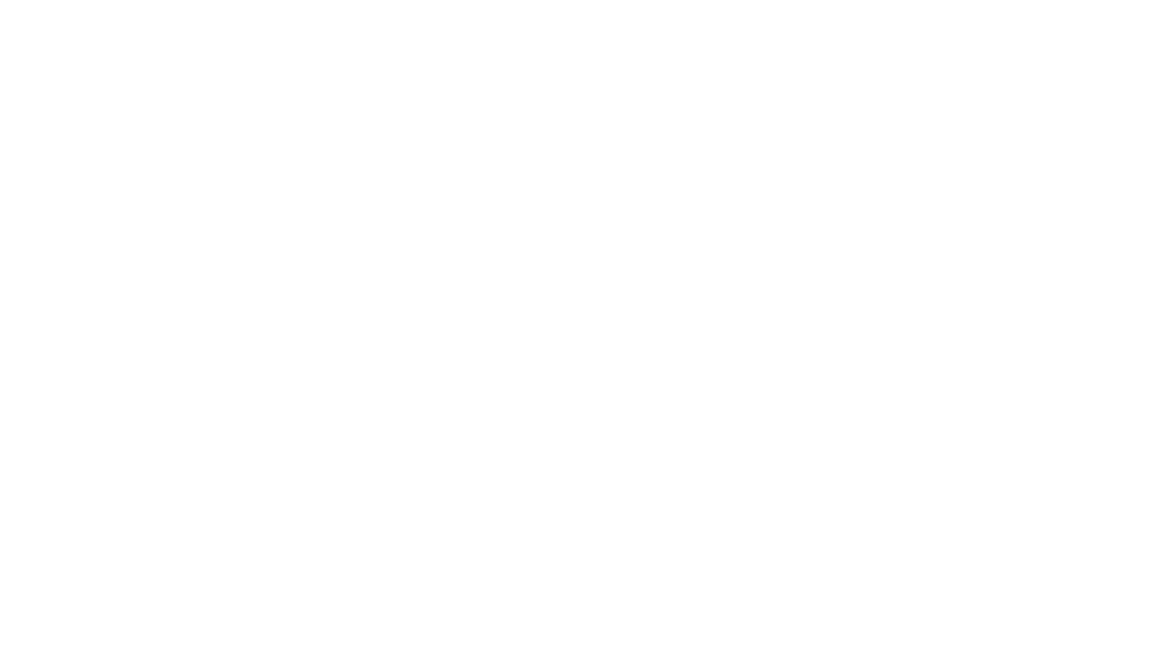
Предисловие к роману «Тайная исповедь и мемуары оправданного грешника»
Публикуем текст Андре Жида, сопровождавший французское издание романа Джеймса Хогга 1947 года, в переводе Ирины Борисовой. Именно это предисловие дало импульс последующей мировой славе «Тайной исповеди...».
Перевод с английского Ирины Борисовой
Открытием этой потрясающей книги я обязан своему замечательному другу Раймонду Мортимеру. В 1924 году, когда я все еще находился в Алжире, он весьма любезно прислал мне три книги на английском языке. Две из них — это работы Джона Стюарта Милля: «Автобиография» и эссе «О свободе», к которым в то время вновь возник интерес на волне угрозы тоталитаризма. Последнюю, на мой взгляд, следует распространять везде, переводить на любые языки, ее должен прочесть и обдумать каждый, кому небезразличны судьба человеческой личности, ее права и обязанности. Третьей же присланной мне книгой было свежее издание «Мемуаров оправданного грешника» Джеймса Хогга, в чтение которых я немедленно погрузился и которыми с каждой страницей был все более потрясен и восхищен. Я расспрашивал об этой книге англичан и американцев, которых встречал в Алжире, — и, хотя многие из них были весьма образованны, никто ничего о ней не слышал. По возвращении во Францию я продолжил попытки что-то узнать про этот роман — и вновь безрезультатно. Чем же объяснить, что столь самобытное и содержательное произведение, дающее такую обильную пищу для размышления и тем, кто интересуется вопросами религии и морали, и, в силу других причин, — психологам и художникам, в первую очередь — сюрреалистам, которых так влечет любое проявление демонического, — так вот, чем же объяснить, что это произведение так и не нашло признания?
В небольшом предисловии к роману находим совсем немногое: «Джеймс Хогг, — сообщается там, — родился в 1770 году, умер в 1835-м и сегодня мало кому известен — в основном в свете его связей с другими литераторами. Те сочинения, что раскрывают грани личности автора, в том числе и со "светлой" стороны, сегодня практически забыты».
Большой английский «Словарь национальных биографий», к которому я обратился, содержит статью о Джеймсе Хогге — «эттрикском пастухе». Упоминается он и во франкоязычном «Словаре знаменитых современников» Гюстава Ваперо. «Словарь» отмечает среди его работ сборник народных песен, созданный в 1801–1803 годах, привлекший к Хоггу внимание сэра Вальтера Скотта, с которым тот подружился; другой двухтомный сборник песен 1819–1821 годов, а также «Быт и частную жизнь Вальтера Скотта», однако ни французский, ни английский источники ничего не сообщают об «Исповеди» — этой «исключительно пугающей истории, перепечатываемой по изданию 1824 года». Т. Эрл Велби, написавший небольшое предисловие к этому изданию, завершил его так: «Эдгар По не писал ничего столь ужасного и наделенного подобной духовной значимостью; в работах Дефо не найти столь убедительной детализации. Однако эти имена, наряду с именами Баньяна и Готорна, когда к ним обращаются критики, звучат скорее как штампы. "Исповедь" же обращается к ужасному совершенно особым образом — таким, которым это делал только Хогг, сухим, крепким, проницательным».
И я с ним согласен. Давно я не был так пленен, так сладостно мучим какой бы то ни было книгой. Преувеличиваю ли я ее значимость? Возможно. Делать заявления относительно ценности иностранной книги — дело неблагодарное. Возможно, меня ввело в заблуждение мое незнание обстоятельств, отчего я преувеличил важность этой работы и счел ее более необычной, чем она есть. Моя подруга и переводчица Дороти Бюсси, сестра Литтона Стрейчи, писала мне: «Не следует забывать, что это вовсе не английское произведение. Оно очень шотландское». Приведу ее слова: «Эта книга до мозга костей шотландская. Англичанин такого не напишет. Ее атмосфера, ее попытка осмыслить пуританство через форму и содержание — все это очень по-шотландски. Предшественника и родственника произведения Хогга следует искать у Бернса — предлагаю вам перечитать его "Молитву святого Вилли". Существуют и другие стихи, а также есть ряд малоизвестных современников Хогга, чьи тексты также посвящены ужасам шотландского фанатизма, — и на их фоне "Исповедь" уже не кажется чем-то выходящим из ряда вон. Что, разумеется, не умаляет достоинств романа — но делает его менее особенным и примечательным среди современных ему произведений».
Думаю, так оно и есть. Но разве нельзя сказать того же самого, сопоставляя Шекспира с прочими драматургами елизаветинской эпохи?
Как бы там ни было, книга перед нами. Пусть ее место в истории определяют ученые мужи, пусть они ищут ее предшественников и определяют, где находятся ее корни. Я без лишних вопросов принимаю ее такой, какая она есть: я ей поражаюсь, пугаюсь ее, страшусь этого чудовищного плода с Древа познания. Мне достаточно знать, что существует развитая страна, в недавней истории которой существовал период, когда такие искажения веры были возможны. Но еще более поражает меня то, что на момент выхода ничего поражающего в ней не видели.
К тому же это искажение — явление не исключительно шотландское. Хоггов «оправданный грешник», сам того не ведая, без сомнения — антиномист, последователь учения Иоганна Агриколы, о котором можно прочесть в списке христианских ересей 1538 года за авторством Понтана. А в изданном в Лондоне в 1704 году «Словаре религий» о нем написано следующее:
«Антиномисты, называемые так за отвержение ими Закона, — по их мнению, он в силу Божьего промысла лишен смысла — считают, что добродетель не приближает к спасению, а злодеяние не препятствует ему; что дитя Божье согрешить не способно, что Господь никогда не попречет Свое чадо его деяниями; что убийство, невоздержность и прочие грехи — грехи лишь для тех, кто зол по природе своей, но не для подобных Богу; что тот, кого коснулась милость Его и кому однажды обещано спасение, после никогда в нем не усомнится и что Господь любит людей не за святость, и даже причисление к лику святых не есть синоним оправдания перед Богом и так далее...»
Бесценные сведения я обнаружил и в издании стихов Роберта Браунинга, приуроченном к столетнему юбилею поэта, — иметь эту книгу в своей библиотеке для меня большая честь. Они содержатся в предисловии к замечательному стихотворению «Иоганн Агрикола размышляет». «Иоганн Агрикола, — говорится там, — был учеником Лютера в ранний период Реформации, однако впоследствии основал течение антиномистов, крайние формы учения которых предполагали, что тому, кому уготовано спасение, добродетель не нужна, равно как и злодеяния не станут ему препятствием для спасения, если оно предначертано». Иоганн Агрикола из стихотворения Браунинга «навеки невинен» — сама мысль об этом поражала меня. Был ли Браунинг знаком с романом Хогга? Тема его стихотворения — та же самая, однако если персонаж Браунинга лишь размышляет, то герой Хогга переходит к действию. В его романе мы наблюдаем, как и без того слабая личность героя постепенно стирается и подчиняется преступным замыслам — а религия лишь потворствует падению; при этом само описание злодейств, в которые «оправданный грешник» дает себя втянуть, само по себе крайне занимательно. Браунинг создает для «Агриколы» перекличку с прекрасным стихотворением «Любовник Порфирии», помещая их под общий заголовок «Клети сумасшедшего дома». Омерзительный герой Хогга, впрочем, мыслит вполне здраво, тщательно продумывает убийства и испытывает удовлетворение, осуществляя их. Он не безумец, но одержимый: мы видим, как он все более уступает уговорам своего влиятельного друга, в котором он, — впрочем, слишком поздно — узнает самого дьявола, хотя слово «дьявол» так и не звучит напрямую. Одна из интереснейших особенностей книги — схематичное изображение череды состояний личности, которой все более льстит ее знакомство с Князем тьмы. Когда пелена очарования наконец сорвана и грешник бросается прочь, чтобы вырваться из его ужасающей хватки, — уже слишком поздно. Лукавый завладел им и уже не отпустит.
Без сомнения, книга должна была быть нравоучительной — или хотя бы притвориться таковой. Иначе ее издание просто не допустили бы. Но сомневаюсь, что сам Хогг стоял на стороне «истинной религии», а не придерживался здравого смысла, трезвого рассудка и не ценил вполне естественной широты души в духе Тома Джонса, — ведь как раз таков брат «оправданного грешника», которого «оправданный» убивает из зависти и ненависти — и, кстати, не в последнюю очередь из желания завладеть его долей отцовского наследства. Сам он, однако, считал содеянное не убийством, а добродетельным поступком.
Хогг же явно сочувствует брату Роберта — спонтанному, веселому, олицетворяющему человечность, не скованную религиозными догмами и несущую в себе множество возможностей. Именно поэтому наш «антиномист» вполне естественно приходит к выводу, что тот проклят и что от ему подобных мир надлежит очистить. Его демонический друг внушает ему, что он и есть длань Господня, сотворенная Им, чтобы осуществить очищение. И фанатизм — благодатная почва для появления подобных «чистильщиков». Роберт с ранних лет был приучен «молиться дважды в день, а по субботам — семикратно, — пишет Хогг, — но молиться ему предписывалось лишь за избранных, а всем остальным, отпавшим от Господа, — возвещать погибель, какую обычно сулят дьяволу». Приемный отец Роберта, мистер Рингим, привил мальчику эти антиномистские взгляды и старательно культивировал в нем присущую от природы злобливость, желая придать ей священный смысл, поставив ее на службу Господу. Рингим сам был последователем этих взглядов и ввел Роберта в свой «круг земных праведников» сразу, как только тот достиг разумного возраста. А во второй части книги, где и излагается исповедь, Роберт вспоминает это событие как некое подобие мистической конфирмации: «Удостоверившись в своем освобождении от всякого греха и невозможности вновь пасть в прежнее состояние, я разрыдался от радости». Роман Хогга состоит из двух частей. Вторая повторяет рассказ о событиях, описанных в первой, но в ней эти события видны отчетливо и прозрачно, а не со стороны, как в первой, — так, как их ощущал сам герой, ретроспективно переживающий свою трагедию в духе поэтических монологов Браунинга. Был ли автор «Кольца и книги» знаком с сочинением Хогга? Я в этом практически не сомневаюсь, равно как и в том, что оно на него повлияло, — однако, насколько мне известно, на это пока никто не указывал.
Я использовал слово «конфирмация» в том значении, которое придает ему церковь; вероятно, следовало сказать «интронизация», ведь Роберт чувствует себя и искренне полагает себя высшим лицом церкви, на которого обращены воззвание и промысел Божий и который избран для высших же целей: чтобы осуществить «великие и ужасные деяния, претворяемые силою, с допущения Небес». Теперь мы попадаем в царство ужасного. Нам представляют нового героя, которого в первой части мы едва рассмотрели, — теперь же он готов выйти на сцену и сыграть в этом представлении главную роль; однако мы не сразу поймем, что этот новый протагонист — дьявол. Сперва он предстает в лучшем свете и долгое время кажется другом. Встреча с ним происходит сразу же после конфирмации. «Роберт устремился в поля и леса, дабы излить свой дух в молитве благодарности Всевышнему за Его доброту». В этом окрыленном состоянии он чувствует себя парящим над миром, словно орел, однако, хотя он претендует на близость к Богу, этот взлет нужен ему лишь для того, чтобы с высоты презирать и ненавидеть грешное и обреченное человечество. Именно в этот момент к нему подходит некто, похожий на него как брат: в книге Хогга у дьявола есть такая особенность — принимать облик того, к кому он проявляет интерес. «Я замечал, — произносит грешник, — как иногда, когда мы обсуждали других священников с их постулатами, он вдруг принимал их облик. — И спешно добавляет: — Меня поразило, как, меняя свои черты, он вместе с тем проникал в образ мысли и чувства других людей». Эта полезная способность дает дьяволу Хогга алиби в любом деле. Из всех воплощений дьявола в искусстве и литературе именно это кажется мне наиболее настоящим: «Мой облик меняется в зависимости от предмета изучения и ощущений, — говорит он Роберту, когда тот еще не понимает, с кем имеет дело. — Если я внимательно смотрю на кого-нибудь, то принимаю не только внешнее с ним сходство, но и перенимаю сами его мысли и сам ход рассуждения, потому, как вы понимаете, пристальный взгляд раскрывает мне самые сокровенные закоулки его души».
Ведь дьявол никогда не предстанет перед нами в обличии злодея. Стоит нам узреть его копыта и перепугаться — ему уже ничего не светит. История про копыта долгое время пользовалась популярностью. Однако Дефо, знавший толк в этой теме, в своей «Истории дьявола» отмечает, что дьявол без труда может нанести визит своему знакомцу инкогнито и «никаких копыт тот не обнаружит». Все это, конечно, ерунда: «История» сочинялась в шутку, а в самом Дефо было слишком много от дьявола, чтобы верить в это всерьез. Книга нужна ему была лишь затем, чтобы похвастаться своими весьма многочисленными и острыми наблюдениями. Что до меня самого, я считаю дьявола изобретением — как, впрочем, и Бога. Я не верю в него, но притворяюсь, что верю. Мне нравится заигрывать с ним и слышать от него: «Ну, чего же ты боишься? Ты ведь прекрасно знаешь, что меня не существует». Да и, в конце концов, независимо от нашего к нему отношения дьявол всегда побеждает.
У Хогга же получилась одна из самых тонких и убедительных персонификаций дьявола. Мощь, с помощью которой он действует, исключительно психологического толка — а стало быть, ей подвластны даже неверующие. Он — внешняя проекция наших собственных желаний, нашей гордыни, наших потаенных мыслей. Наше потакание себе поддерживает в нем жизнь. И отсюда глубокие выводы, которые позволяет сделать эта странная книга, — а фантастическое в ней (кроме последних страниц) всегда коренится в психологии и объясняется ею, безо всякого обращения к сверхъестественному, подобно тому как это происходит в замечательном «Повороте винта» Генри Джеймса. (Лишь прочитав этот исключительный шедевр в третий раз, я убедился, что все располагающие к сверхъестественной трактовке компоненты истории — на самом деле лишь естественное следствие ментальной болезни гувернантки или, если еще более упрощать, — следствие страха.)
Событиям, описываемым в романе Хогга, труднее давать естественную трактовку, особенно это касается заключительной части: фантасмагория слишком легко подчиняет себе реальность, и констатировать это приходится с сожалением. Фантастическое в ней перестает быть чистой выдумкой, проекцией сознания, хотя именно это позволяли предположить первые три четверти книги. Однако не будем слишком строги к Хоггу: странное в его тексте всегда или почти всегда раскрывает грани психологии личности. Эта книга заслуживает выйти из более чем векового забвения именно в таком виде, в котором она есть. На мой взгляд, это совершенно уникальное произведение, и я буду счастлив, если сказанное мною поспособствует обретению им той запоздалой славы, которую оно, я полагаю, заслуживает.
В небольшом предисловии к роману находим совсем немногое: «Джеймс Хогг, — сообщается там, — родился в 1770 году, умер в 1835-м и сегодня мало кому известен — в основном в свете его связей с другими литераторами. Те сочинения, что раскрывают грани личности автора, в том числе и со "светлой" стороны, сегодня практически забыты».
Большой английский «Словарь национальных биографий», к которому я обратился, содержит статью о Джеймсе Хогге — «эттрикском пастухе». Упоминается он и во франкоязычном «Словаре знаменитых современников» Гюстава Ваперо. «Словарь» отмечает среди его работ сборник народных песен, созданный в 1801–1803 годах, привлекший к Хоггу внимание сэра Вальтера Скотта, с которым тот подружился; другой двухтомный сборник песен 1819–1821 годов, а также «Быт и частную жизнь Вальтера Скотта», однако ни французский, ни английский источники ничего не сообщают об «Исповеди» — этой «исключительно пугающей истории, перепечатываемой по изданию 1824 года». Т. Эрл Велби, написавший небольшое предисловие к этому изданию, завершил его так: «Эдгар По не писал ничего столь ужасного и наделенного подобной духовной значимостью; в работах Дефо не найти столь убедительной детализации. Однако эти имена, наряду с именами Баньяна и Готорна, когда к ним обращаются критики, звучат скорее как штампы. "Исповедь" же обращается к ужасному совершенно особым образом — таким, которым это делал только Хогг, сухим, крепким, проницательным».
И я с ним согласен. Давно я не был так пленен, так сладостно мучим какой бы то ни было книгой. Преувеличиваю ли я ее значимость? Возможно. Делать заявления относительно ценности иностранной книги — дело неблагодарное. Возможно, меня ввело в заблуждение мое незнание обстоятельств, отчего я преувеличил важность этой работы и счел ее более необычной, чем она есть. Моя подруга и переводчица Дороти Бюсси, сестра Литтона Стрейчи, писала мне: «Не следует забывать, что это вовсе не английское произведение. Оно очень шотландское». Приведу ее слова: «Эта книга до мозга костей шотландская. Англичанин такого не напишет. Ее атмосфера, ее попытка осмыслить пуританство через форму и содержание — все это очень по-шотландски. Предшественника и родственника произведения Хогга следует искать у Бернса — предлагаю вам перечитать его "Молитву святого Вилли". Существуют и другие стихи, а также есть ряд малоизвестных современников Хогга, чьи тексты также посвящены ужасам шотландского фанатизма, — и на их фоне "Исповедь" уже не кажется чем-то выходящим из ряда вон. Что, разумеется, не умаляет достоинств романа — но делает его менее особенным и примечательным среди современных ему произведений».
Думаю, так оно и есть. Но разве нельзя сказать того же самого, сопоставляя Шекспира с прочими драматургами елизаветинской эпохи?
Как бы там ни было, книга перед нами. Пусть ее место в истории определяют ученые мужи, пусть они ищут ее предшественников и определяют, где находятся ее корни. Я без лишних вопросов принимаю ее такой, какая она есть: я ей поражаюсь, пугаюсь ее, страшусь этого чудовищного плода с Древа познания. Мне достаточно знать, что существует развитая страна, в недавней истории которой существовал период, когда такие искажения веры были возможны. Но еще более поражает меня то, что на момент выхода ничего поражающего в ней не видели.
К тому же это искажение — явление не исключительно шотландское. Хоггов «оправданный грешник», сам того не ведая, без сомнения — антиномист, последователь учения Иоганна Агриколы, о котором можно прочесть в списке христианских ересей 1538 года за авторством Понтана. А в изданном в Лондоне в 1704 году «Словаре религий» о нем написано следующее:
«Антиномисты, называемые так за отвержение ими Закона, — по их мнению, он в силу Божьего промысла лишен смысла — считают, что добродетель не приближает к спасению, а злодеяние не препятствует ему; что дитя Божье согрешить не способно, что Господь никогда не попречет Свое чадо его деяниями; что убийство, невоздержность и прочие грехи — грехи лишь для тех, кто зол по природе своей, но не для подобных Богу; что тот, кого коснулась милость Его и кому однажды обещано спасение, после никогда в нем не усомнится и что Господь любит людей не за святость, и даже причисление к лику святых не есть синоним оправдания перед Богом и так далее...»
Бесценные сведения я обнаружил и в издании стихов Роберта Браунинга, приуроченном к столетнему юбилею поэта, — иметь эту книгу в своей библиотеке для меня большая честь. Они содержатся в предисловии к замечательному стихотворению «Иоганн Агрикола размышляет». «Иоганн Агрикола, — говорится там, — был учеником Лютера в ранний период Реформации, однако впоследствии основал течение антиномистов, крайние формы учения которых предполагали, что тому, кому уготовано спасение, добродетель не нужна, равно как и злодеяния не станут ему препятствием для спасения, если оно предначертано». Иоганн Агрикола из стихотворения Браунинга «навеки невинен» — сама мысль об этом поражала меня. Был ли Браунинг знаком с романом Хогга? Тема его стихотворения — та же самая, однако если персонаж Браунинга лишь размышляет, то герой Хогга переходит к действию. В его романе мы наблюдаем, как и без того слабая личность героя постепенно стирается и подчиняется преступным замыслам — а религия лишь потворствует падению; при этом само описание злодейств, в которые «оправданный грешник» дает себя втянуть, само по себе крайне занимательно. Браунинг создает для «Агриколы» перекличку с прекрасным стихотворением «Любовник Порфирии», помещая их под общий заголовок «Клети сумасшедшего дома». Омерзительный герой Хогга, впрочем, мыслит вполне здраво, тщательно продумывает убийства и испытывает удовлетворение, осуществляя их. Он не безумец, но одержимый: мы видим, как он все более уступает уговорам своего влиятельного друга, в котором он, — впрочем, слишком поздно — узнает самого дьявола, хотя слово «дьявол» так и не звучит напрямую. Одна из интереснейших особенностей книги — схематичное изображение череды состояний личности, которой все более льстит ее знакомство с Князем тьмы. Когда пелена очарования наконец сорвана и грешник бросается прочь, чтобы вырваться из его ужасающей хватки, — уже слишком поздно. Лукавый завладел им и уже не отпустит.
Без сомнения, книга должна была быть нравоучительной — или хотя бы притвориться таковой. Иначе ее издание просто не допустили бы. Но сомневаюсь, что сам Хогг стоял на стороне «истинной религии», а не придерживался здравого смысла, трезвого рассудка и не ценил вполне естественной широты души в духе Тома Джонса, — ведь как раз таков брат «оправданного грешника», которого «оправданный» убивает из зависти и ненависти — и, кстати, не в последнюю очередь из желания завладеть его долей отцовского наследства. Сам он, однако, считал содеянное не убийством, а добродетельным поступком.
Хогг же явно сочувствует брату Роберта — спонтанному, веселому, олицетворяющему человечность, не скованную религиозными догмами и несущую в себе множество возможностей. Именно поэтому наш «антиномист» вполне естественно приходит к выводу, что тот проклят и что от ему подобных мир надлежит очистить. Его демонический друг внушает ему, что он и есть длань Господня, сотворенная Им, чтобы осуществить очищение. И фанатизм — благодатная почва для появления подобных «чистильщиков». Роберт с ранних лет был приучен «молиться дважды в день, а по субботам — семикратно, — пишет Хогг, — но молиться ему предписывалось лишь за избранных, а всем остальным, отпавшим от Господа, — возвещать погибель, какую обычно сулят дьяволу». Приемный отец Роберта, мистер Рингим, привил мальчику эти антиномистские взгляды и старательно культивировал в нем присущую от природы злобливость, желая придать ей священный смысл, поставив ее на службу Господу. Рингим сам был последователем этих взглядов и ввел Роберта в свой «круг земных праведников» сразу, как только тот достиг разумного возраста. А во второй части книги, где и излагается исповедь, Роберт вспоминает это событие как некое подобие мистической конфирмации: «Удостоверившись в своем освобождении от всякого греха и невозможности вновь пасть в прежнее состояние, я разрыдался от радости». Роман Хогга состоит из двух частей. Вторая повторяет рассказ о событиях, описанных в первой, но в ней эти события видны отчетливо и прозрачно, а не со стороны, как в первой, — так, как их ощущал сам герой, ретроспективно переживающий свою трагедию в духе поэтических монологов Браунинга. Был ли автор «Кольца и книги» знаком с сочинением Хогга? Я в этом практически не сомневаюсь, равно как и в том, что оно на него повлияло, — однако, насколько мне известно, на это пока никто не указывал.
Я использовал слово «конфирмация» в том значении, которое придает ему церковь; вероятно, следовало сказать «интронизация», ведь Роберт чувствует себя и искренне полагает себя высшим лицом церкви, на которого обращены воззвание и промысел Божий и который избран для высших же целей: чтобы осуществить «великие и ужасные деяния, претворяемые силою, с допущения Небес». Теперь мы попадаем в царство ужасного. Нам представляют нового героя, которого в первой части мы едва рассмотрели, — теперь же он готов выйти на сцену и сыграть в этом представлении главную роль; однако мы не сразу поймем, что этот новый протагонист — дьявол. Сперва он предстает в лучшем свете и долгое время кажется другом. Встреча с ним происходит сразу же после конфирмации. «Роберт устремился в поля и леса, дабы излить свой дух в молитве благодарности Всевышнему за Его доброту». В этом окрыленном состоянии он чувствует себя парящим над миром, словно орел, однако, хотя он претендует на близость к Богу, этот взлет нужен ему лишь для того, чтобы с высоты презирать и ненавидеть грешное и обреченное человечество. Именно в этот момент к нему подходит некто, похожий на него как брат: в книге Хогга у дьявола есть такая особенность — принимать облик того, к кому он проявляет интерес. «Я замечал, — произносит грешник, — как иногда, когда мы обсуждали других священников с их постулатами, он вдруг принимал их облик. — И спешно добавляет: — Меня поразило, как, меняя свои черты, он вместе с тем проникал в образ мысли и чувства других людей». Эта полезная способность дает дьяволу Хогга алиби в любом деле. Из всех воплощений дьявола в искусстве и литературе именно это кажется мне наиболее настоящим: «Мой облик меняется в зависимости от предмета изучения и ощущений, — говорит он Роберту, когда тот еще не понимает, с кем имеет дело. — Если я внимательно смотрю на кого-нибудь, то принимаю не только внешнее с ним сходство, но и перенимаю сами его мысли и сам ход рассуждения, потому, как вы понимаете, пристальный взгляд раскрывает мне самые сокровенные закоулки его души».
Ведь дьявол никогда не предстанет перед нами в обличии злодея. Стоит нам узреть его копыта и перепугаться — ему уже ничего не светит. История про копыта долгое время пользовалась популярностью. Однако Дефо, знавший толк в этой теме, в своей «Истории дьявола» отмечает, что дьявол без труда может нанести визит своему знакомцу инкогнито и «никаких копыт тот не обнаружит». Все это, конечно, ерунда: «История» сочинялась в шутку, а в самом Дефо было слишком много от дьявола, чтобы верить в это всерьез. Книга нужна ему была лишь затем, чтобы похвастаться своими весьма многочисленными и острыми наблюдениями. Что до меня самого, я считаю дьявола изобретением — как, впрочем, и Бога. Я не верю в него, но притворяюсь, что верю. Мне нравится заигрывать с ним и слышать от него: «Ну, чего же ты боишься? Ты ведь прекрасно знаешь, что меня не существует». Да и, в конце концов, независимо от нашего к нему отношения дьявол всегда побеждает.
У Хогга же получилась одна из самых тонких и убедительных персонификаций дьявола. Мощь, с помощью которой он действует, исключительно психологического толка — а стало быть, ей подвластны даже неверующие. Он — внешняя проекция наших собственных желаний, нашей гордыни, наших потаенных мыслей. Наше потакание себе поддерживает в нем жизнь. И отсюда глубокие выводы, которые позволяет сделать эта странная книга, — а фантастическое в ней (кроме последних страниц) всегда коренится в психологии и объясняется ею, безо всякого обращения к сверхъестественному, подобно тому как это происходит в замечательном «Повороте винта» Генри Джеймса. (Лишь прочитав этот исключительный шедевр в третий раз, я убедился, что все располагающие к сверхъестественной трактовке компоненты истории — на самом деле лишь естественное следствие ментальной болезни гувернантки или, если еще более упрощать, — следствие страха.)
Событиям, описываемым в романе Хогга, труднее давать естественную трактовку, особенно это касается заключительной части: фантасмагория слишком легко подчиняет себе реальность, и констатировать это приходится с сожалением. Фантастическое в ней перестает быть чистой выдумкой, проекцией сознания, хотя именно это позволяли предположить первые три четверти книги. Однако не будем слишком строги к Хоггу: странное в его тексте всегда или почти всегда раскрывает грани психологии личности. Эта книга заслуживает выйти из более чем векового забвения именно в таком виде, в котором она есть. На мой взгляд, это совершенно уникальное произведение, и я буду счастлив, если сказанное мною поспособствует обретению им той запоздалой славы, которую оно, я полагаю, заслуживает.
вас может заинтересовать

